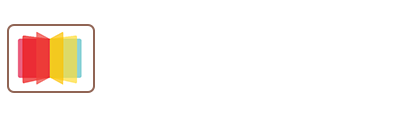Перейти в медиабанкАудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова. Архивное фото
Разобраться в действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимах, а тем более – вспомнить, для чего они создавались, сейчас сложно даже специалистам. Почему не «взлетели» территории опережающего развития и региональные инвестиционные режимы, что не так со Свободным портом Владивосток, и что мотивирует людей и бизнес переезжать на Дальний Восток, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Беседовала Елизавета Седых.
– Многие преференциальные режимы действуют на Дальнем Востоке достаточно давно. Например, территории опережающего развития были введены в 2014 году. До этого был введен режим региональных инвестиционных проектов, в 2015 году – «Свободный порт Владивосток». Отдельный режим введен в 2022 году для Курильских островов.
Почему мы сказали, что преференциальные режимы недостаточно эффективны? В первую очередь потому, что некоторые преференциальные режимы создавались ради определенных целей, а получилось в итоге другое. При этом преференциальный режим – это инструмент, а не самоцель. И мы должны четко понимать, для чего он создается.
Зачастую все преференциальные режимы почему-то сравниваются по объему инвестиций. С нашей точки зрения, это не совсем верно. Например, изначально предполагалось, что Свободный порт Владивосток создаст условия на территории Дальнего Востока для компаний, которые должны были сделать эту территорию частью глобального транспортно-логистического комплекса Азиатско-тихоокеанского региона, то есть создать «ворота» в АТР.
С нашей точки зрения, это не совсем корректно. У нас достаточно большое количество муниципалитетов, например, в Приморском крае, где малый бизнес и так развивается неплохо. То есть в этом смысле мы поддержали то, что и так растет. Вот это мы и называем недостаточно эффективным: первое – мы отошли от цели, второе – мы начинаем поддерживать то, что выросло бы и без господдержки. Это ключевая проблема, которую мы отмечаем и в отношении Свободного порта Владивосток, и в отношении режима региональных инвестиционных проектов (РИП).
Нужно обратить внимание, что режим РИП действует не только на территории Дальнего Востока, по законодательству туда еще входят Республика Тыва, Красноярский край и Иркутская область. Но, опять же, если вернуться к тому, с какой целью создавался этот режим, то это была поддержка высокотехнологичных проектов. А что в итоге получилось?
Во-первых, основной налог, на который дается льгота, – это НДПИ. И поэтому из 71 участника РИП в ДФО у 65 участников – основной вид деятельности относится к отрасли горнорудной промышленности и металлургии, у четырех4 участников – к лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, у остальных двух участников – к сельскому хозяйству и пищевой промышленности, медицинской промышленности.
То есть по факту преференции получают совершенно другие секторы промышленности. И в результате, когда мы смотрим на объемы вложений разных резидентов этого режима или пользователей льготы – в проекте, например, есть 75 миллионов рублей инвестиций, а есть более 10 миллиардов рублей – то непонятно, а что за тип проектов мы поддерживаем? Какой вклад они действительно создают для развития сектора? Здесь очень много нюансов, которые заставляют задуматься, зачем вообще в таком виде сейчас нужен этот преференциальный режим.
Ну и, конечно, ТОРы. В настоящее время в субъектах ДФО создано 16 ТОРов. И несмотря на то, что среди преференциальных режимов, действующих на Дальнем Востоке, ТОРы лидируют по объему инвестиций, они сами очень разные и с очень разной отдачей. Так, когда мы говорим про общий объем инвестиций, то видим грандиозные цифры, а когда говорим про конкретные ТОРы, то там уже все не так однозначно. Есть лидеры: например, Амурская ТОР, занимающая существенную долю от общего объема инвестиций – 55% на момент проведения проверки. А есть ТОР с очень скромными результатами.
– Во-первых, обязательно нужно вести постоянный мониторинг за деятельностью тех компаний, у которых заканчивается льготный период в ТОР. Нужно посмотреть, что с ними происходит, пользуются ли они дальше какими-то льготами, какой-то поддержкой, или они все-таки выходят в нормальную жизнь, которая предполагалась после льготного периода. Здесь очень много вопросов: будут ли жить эти предприятия после льготного периода? Какой у нас произойдет отсев, и произойдет ли он? Вечно находиться в преференциальном режиме невозможно.
Во-вторых, конечно, в едином преференциальном режиме необходимо учесть особенность территорий Дальнего Востока. Если будет единая система для всех, выиграют даже не регионы, а отдельные территории, имеющие более высокую инвестиционную привлекательность.
Но само по себе создание единого преференциального режима – решение очень своевременное. Потому что мы отмечали в своих проверках, что очень часто меняются границы ТОР: в период с 2021 года по ноябрь 2024 года в решения правительства Российской Федерации о создании ТОР подготовлено и внесено 88 изменений, обусловленных необходимостью увеличения площади ТОР в целях реализации потенциальных проектов. То есть этот процесс нужно было бы или прекращать, или распространять данный режим на всю территорию ДВ.
– Это очень хороший вопрос, потому что они, по идее, должны прекратить свое существование, но с сохранением всех условий для резидентов до конца действия льготного периода. Такое бывает и в мировой практике, и в российской. Но вопрос, как будут действовать режимы, которые регулируются разными ведомствами. РИП, например, Минфин, ФНС. Также есть особая экономическая зона в Магаданской области, которая была продлена, там уже сейчас создали ТОР, а также особая экономическая зона на Байкале. Если мы получим ситуацию, что Минвосток объединит свои преференциальные режимы, а другие нет, то останется «лоскутное одеяло».
И тут очень важно, что президент России очень четко поставил ориентир – высокотехнологичные производства. Поэтому важно, чтобы при формировании единого преференциального режима были не просто льготы, а образ структуры экономики, которую государство хочет видеть на территории Дальнего Востока через 10-15 лет.
– Мы в отчете, отмечали, что за время действия ФЦП «Курилы» и функционирования преференциальных режимов в динамике социально-экономических показателей развития Курил с 2015 года можно отметить позитивные изменения. В частности, отмечается прирост постоянной численности населения с 2015 года на 1,6 тысячи человек, или на 9% к 2023 году. На аналогичное число к 2023 году – на 1,6 тысячи человек или 24% к 2015 году – выросла и численность работников крупных и средних организаций. Объем отгруженных товаров и услуг при измерении в сопоставимых ценах с 2015 года вырос в 2,8 раза, в период с 2015 по 2022 год включительно наблюдался значительный рост инвестиций в основной капитал – рост по показателю в сопоставимых ценах составил также 2,8 раза.
Но ФЦП «Курилы» – очень небольшая по объему средств. В 2021-2023 годах на ее реализацию было предусмотрено 1,765 миллиарда рублей, а исполнено всего 66%. При этом за 2016–2024 годы ФЦП «Курилы» многократно корректировалась: за девять лет изменения в программу вносились 12 раз. Большинство изменений касалось объемов финансирования ФЦП, при этом основной тенденцией стало увеличение доли регионального и внебюджетного финансирования мероприятий программы на фоне постепенного сокращения средств из федерального бюджета.
Мы отмечали ряд проблемных зон этого режима, которые рекомендовали устранить. Например, потенциальный инвестор, признаваемый в соответствии с Налоговым кодексом взаимозависимым лицом по отношению к организации, зарегистрированной на территории Курильских островов до 1 января 2022 года, не имеет возможности получить статус участника режима КОРФ и использовать предусмотренные льготы и преференции. Это в свою очередь может привести к сокращению числа потенциально созданных рабочих мест и инвестиций в экономику региона. Также положения Налогового кодекса не допускают возможности одновременного использования режима КОРФ и УСН, что снижает количество потенциальных резидентов режима КОРФ.
– Да, коллеги этим занимаются, они сейчас на завершающей стадии проверки.
– Да, там наиболее активные регионы — это Приморский край и Республика Саха (Якутия).
– Приморье – самый привлекательный регион. Это как для жителей западной части России – Сочи. Поэтому, естественно, кто не хочет уезжать с Дальнего Востока, даже из северных территорий, тот, конечно, скорее купит квартиру по Дальневосточной ипотеке в Приморье. В Якутии другая ситуация, которая связана еще с тем, что там развиваются крупные и большие проекты. Поэтому ситуация с перекосом не может поменяться быстро.
Но для нас странно, почему Хабаровский край в такой просадке. То есть, почему некоторые территории, которые должны быть тоже активными участниками этих процессов, таковыми не являются. Потенциал есть, но с ним нужно активно работать. Это один из индикаторов, на мой взгляд, который должен не просто говорить, что по Дальневосточной ипотеке столько-то взято кредитов, а сигнализировать, где точки провала, где должно быть больше, а этого нет.
– Состояние инфраструктуры всегда играет роль, если мы говорим про граждан. Ведь что для нас важно как для жителей города? Чтобы у нас была хорошая социальная инфраструктура. Прежде всего, чтобы были отлаженные, хорошо работающие сервисы. Начиная с наличия воды в кранах и ее качества и заканчивая медициной. Это с одной стороны, а с другой, конечно, важен рынок труда и возможность нормального, достойного трудоустройства. Чтобы он был разнообразным, с разным типом предложений и так далее.
Поэтому в этом смысле по второму фактору, конечно, всегда крупные города будут выигрывать. И чтобы небольшие города могли к этому процессу присоединиться, как раз и в мировой практике, и в российской формировались агломерации: то есть, когда за счет повышения транспортной доступности граждане получают более разнообразный рынок труда.
– И да, и нет. Есть такой тезис: туристы никогда не придут туда, где неинтересно жителям. Но это действует только для городского типа туризма. Для этого подходят, например, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и другие города, которые сейчас двигаются в этом направлении. Это городской тип туризма, который связан с чем-то культурно-познавательным. Это музеи, театры, городские пространства, где вы просто можете по городу спокойно, безопасно, наслаждаясь тем, что вы видите вокруг, прогуляться. А вот дальше все чуть-чуть сложнее, потому что территория Дальнего Востока – это все-таки природные красоты. Удерживает ли это местных жителей? Я думаю, что нет.
В целом мотивация людей очень многогранная, и люди принимают решения исходя из очень многих факторов. Безусловно, часть людей для себя выбирают то место, где для них более, скажем так, перспективно. Может быть, не всегда комфортно, но перспективно. И как работать с этим перекосом — очень хороший вопрос. Но есть прекрасное поручение президента по переносу крупных компаний, штаб-квартир в регионы.
– Даже до поручения президента часть компаний стали двигаться в этом направлении, при этом в сибирские и дальневосточные регионы.
Когда с Дальнего Востока уходят штаб-квартиры, для людей это сигнал, что жизнь теперь где-то там. Вот, у вас была крупная компания, но раз – и она переезжает в Москву. Всё, сразу все усилия обнуляются на глазах. Поэтому это действительно, крайне значимое поручение для развития территории. Для появления новых точек роста. Очень хочется, чтобы на Дальнем Востоке тоже была не одна такая точка. Потому что для такой огромной территории, безусловно, одной прекрасной, замечательной точки как Владивосток мало.
– Мы – ведомство внешнего финансового контроля, конечно, мы не можем отвечать за все. Но это очень правильный, хороший вопрос. Это про позитивный образ территории. То, как вот сейчас уже изменился имидж Дальнего Востока, на самом деле дорогого стоит. На мой взгляд, нужно рассказывать о таких людях, которые территории Дальнего Востока переосмысляют и пересоздают. И таких людей много, вот про них, про их истории успеха и нужно рассказывать.На Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития, заявил Путин5 сентября, 07:48
Источник: ria.ru